Судьба броненосца. Биография Сергея Эйзенштейна
Отрывок из книги Оксаны Булгаковой

Фотопортрет Сергея Эйзенштейна
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге впервые на русском языке опубликовало новую книгу Оксаны Булгаковой «Судьба броненосца. Биография Сергея Эйзенштейна». Автор — киновед, исследователь раннего советского кино, профессор Университета Гутенберга в Майнце.
«Биография Сергея Эйзенштейна была написана ею по-немецки, затем издана по-английски, а теперь приходит и к отечественному читателю. Адресована книга тем, кто не в полной мере знаком с контекстом и рассчитывает на ясное изложение малоизвестного и очень обширного материала о художнике-новаторе, которого современники называли Русским Леонардо. В возрасте 27 лет Эйзенштейн обретает всемирную славу как революционный художник, а в 50 лет умирает знаменитым, но опальным академиком, измученный постоянными капризами приручившей его советской власти. Книга Булгаковой изящна, увлекательна и основательна; автор виртуозно балансирует между научной солидностью и занимательностью. Книга рассчитана на самую широкую аудиторию, но станет полезной и для специалиста-знатока, поскольку меняет оптику, пересматривает очевидное, ломает стереотипы», — сообщают издатели.
С любезного разрешения издательства представляем фрагмент книги Оксаны Булгаковой.
1924. Прыжок в кино: «Стачка»
Весь декабрь 1923 года Эйзенштейн провел, работая над новым спектаклем «Противогазы». Сергей Третьяков взял сюжет из газеты, превратил его в производственную мелодраму и опубликовал в «ЛЕФе». На газовом заводе взрывается труба. Из-за халатности директора на завод не завезли достаточное количество противогазов, и рабочим приходится бороться с неисправностью в отравленной атмосфере. Спасая оборудование, погибает сын директора. Его беременная жена обещает назвать сына «Противогазом». Директора сыграл Максим Штраух; героическую роль его сына исполнил Борис Юрцев — рыжий клоун из «Мудреца». Спектакль напоминал проекты, которые планировались лабораторией по моделированию новых поведенческих форм, задуманной Эйзенштейном и Арватовым еще во время работы над «Мексиканцем». Эйзенштейн поставил пьесу прямо в цеху Московского газового завода.
Решение играть спектакль на заводе было принято из практических соображений. Пролеткульт лишился собственного театрального помещения. На волне крепнущего НЭПа бесприбыльный Пролеткульт выехал из Эрмитажного театра и передал здание Театру оперетты. «Прекрасная Елена» Оффенбаха привлекала большую аудиторию и приносила больше денег, нежели пьесы Плетнева. Пролеткульту отвели плохо оборудованное помещение далеко от центра города, в цыганском ресторане «Яр», но театр отказался от этого нового пристанища. После исполнения «Мудреца» в небольшом зале на Возвдиженке Эйзенштейн остался без места для репетиций и спектаклей. Здание на Воздвиженке только что занял Секретариат ЦК партии. В 1925 году в это здание въехал ВОКС — новообразованное Всероссийское общество культурных связей с зарубежными странами. Эйзенштейн был вынужден переезжать из клуба в клуб. «Мудрец» требовал много оборудования — канаты, трапеции, кольца — и его точной установки, иначе опасное представление угрожало жизни исполнителей. Перевозить этот спектакль из одного помещения в другое было просто невозможно. Они играли «Слышишь, Москва?» в здании Горкома, когда там не было намечено никаких митингов или выступлений. Представления устраивались реже, чем хотелось. Дневные занятия по большей части были отменены. Такое положение вещей было еще одним следствием НЭПа: государственная поддержка театров была урезана, а помещения отданы частникам. Даже Фореггер вынужден был сначала коммерциализировать, а затем и закрыть свой театр. Так что решение играть спектакль на газовом заводе было следствием необходимости.
Годом раньше Мейерхольд поставил на Киевском заводе «Арсенал» спектакль «Земля дыбом». Это был первый опыт его сотрудничества с Третьяковым, сделавшим «перемонтаж» пьесы Марселя Мартине. Мейерхольд дал на фабрике только одно гастрольное представление, после чего перенес спектакль в традиционный театр. Эйзенштейн превратил вынужденный переезд в заводское пространство в программу: завод стал элементом спектакля, производственные процессы — частью действия. Его команда возвела в машинном отделении небольшую деревянную сцену в конструктивистском стиле — со ступеньками и несколькими платформами. Рядом с настоящими турбогенераторами эти пристройки смотрелись довольно жалко. Для зрителей соорудили небольшой амфитеатр. Актеры были одеты в рабочие спецовки. Эйзенштейн использовал реальные заводские шумы — звуки заклепочных молотков, пневматических храповиков, металлических пил. Кстати, также годом раньше композитор-пролеткультовец Арсений Авраамов попытался осуществить нечто похожее в своей «Симфонии гудков». Эйзенштейн рассчитал финал таким образом, чтобы спектакль заканчивался одновременно с началом рабочей смены. Зрители-рабочие должны были сменить актеров, заняв их рабочие места в машинном отделении. Премьера состоялась 29 февраля 1924 года, через четыре месяца после «Слышишь, Москва?».
«Противогазам» не удалось привлечь зрителей из рабочего класса. Художественная публика пришла на два первых спектаклях (с бесплатными контрамарками). Третий спектакль актеры играли перед пустым залом. Четвертый они играть не стали.
Теоретически, такой результат не должен был обескуражить создателей. Согласно «жизнестроителям» из ЛЕФа, искусство постепенно должно было отмереть. Однако Эйзенштейн долго не мог оправиться от фиаско. Он был раздавлен реальным опытом постановки: завод жил одной жизнью, театр — другой. Маяковский и ЛЕФ поддержали спектакль, но критики высмеивали его «доисторический, наивный натурализм»1. «Противогазы» с треском провалились, катапультировав своего режиссера в другой вид искусства — кино.
Через месяц после провала, в конце марта 1924 года Эйзенштейн сидел с Эсфирью Шуб в монтажной Кинокомитета. Работа комитета заключалась в том, чтобы избавлять зарубежные фильмы от буржуазной идеологии перед тем, как они дойдут до советского зрителя. Шуб в тот момент перемонтировала «Доктора Мабузе» Фрица Ланга, выпускаемого в повторный прокат, и сокращала две серии фильма в одну под новым названием «Позолоченная гниль». Эйзенштейн активно ей помогал и лично написал идеологически окрашенные титры. Доктор Мабузе, демонический тиран, гипнотизер и психоаналитик, разоблачался как воплощение упадочнического Запада.
Эйзенштейн искал работу в кино и возлагал свои надежды на Эсфирь Шуб. Годом ранее он уже вел переговоры с Комитетом, но безрезультатно. Шансы снять настоящий фильм были минимальными. Если до Октябрьской революции Россия еще производила 334 фильма в год, то в 1923 году было снято только 28 фильмов, при этом лишь пять из них — в Москве. Кинопромышленности не хватало всего: электричества, пленки, киноаппаратуры, специалистов. Многие профессионалы — продюсеры, режиссеры, операторы, художники, актеры, техники — эмигрировали. Эмбарго не позволяло России закупать кинопленку. Только после соглашения в Рапалло2 кинопленка в Россию стала поступать из Германии. Немногочисленные постановки, выходившие за рамки агитационных роликов, продолжали традицию дореволюционного кино, основанного на своеобразном анахронизме. Русская киношкола, комбинируя элементы культуры XIX века — эпические романы, жанровую живопись передвижников, натуралистический психологизм Художественного театра, — выдавала конечный продукт за искусство XX века. Медленный повествовательный ритм, преимущественно статичные кадры; крайне осторожное использование монтажа, якобы срезающего нюансы психологических переходов в актерской игре; многочисленный реквизит, загромождающий кадр, — все это создавало атмосферу антикварной лавки. Старое кино продолжало жить. В 1922 году Александр Пантелеев, снявший первые советские агитки «Уплотнение» (1918) и «Чудотворец» (1919), поставил крепко сбитую мелодраму с грустным концом «Нет счастья на земле». Нуждающийся молодой человек болен туберкулезом; его юную хорошенькую жену соблазняет на яхте богатый друг. После радикальной реформы семейного права в 1918 году развод перестал быть юридической проблемой, но не смог стать сюжетом фильма. Поэтому муж кончает собой, а жена теряет рассудок на его могиле. Глубокий пессимизм традиционного русского фильма не поколеблен революцией. Лишь несущественные детали указывают на новую реальность: муж служит не в банке, а в Смольном (штаб-квартире большевиков), соблазнитель — эмигрант, вернувшийся в Петроград с американским паспортом и долларами. Еще невероятнее было сохранение традиции русского исторического фильма в жанре аллегорий, ориентированных на фаталистскую философию истории, далекую от классовой доктрины Маркса. Революционные потрясения толковались как действие мистических сил, в том числе как явление Антихриста. Когда в 1921 году поступил заказ на фильм о голоде в Поволжье, режиссер Владимир Гардин избрал для экранизации символистскую пьесу «Царь Голод» Леонида Андреева. В основу фильма о революции под названием, вдохновленным «Коммунистическим манифестом» Маркса «Призрак бродит по Европе» (1923), Гардин положил мистический рассказ Эргара Аллана По «Маска красной смерти».
Кулешов по-прежнему ставил этюды со студентами и временами получал по 17–19 метров пленки для своих монтажных экспериментов. Он считал, что русская повседневность недостаточно фотогенична: в ней слишком мало современных динамичных объектов, таких как автомобили, поезда, самолеты, слишком мало фотографически приемлемой натуры — мостов, радиовышек, небоскребов. Вертов мечтал о новом кино, освобожденном от балласта старых художественных форм, но мог снимать только еженедельную «Киноправду». В 1924 году застоявшаяся кинопромышленность постепенно начала оживать. В феврале связанные с кинематографом люди и влиятельные журналисты, такие как Михаил Кольцов и Николай Лебедев, объединили усилия и учредили Ассоциацию революционной кинематографии (АРК). Эта группа стала мощной общественной силой. В своей декларации, напечатанной в «Правде» от 27 февраля, группа заявляла, что за семь лет советской власти все еще не возникло советского кинематографа. Среди подписантов стояло также имя Эйзенштейна, хотя тогда он еще не имел к кино никакого отношения. Деятели АРК требовали радикальных перемен и государственных субсидий. XIII съезд партии отреагировал в мае: слабое государственное ведомство Госкино было объявлено неэффективным. Оно было основано лишь двумя годами ранее с бюджетом в 500 тысяч рублей. Теперь же на его текущем счету оставалось только 3000 (в пересчете на данные денежной реформы 1924 года). Вместо него партия обещала создать Совкино — учреждение, которому предоставлялся статус монополии и 4 миллиона начального капитала. В программной статье, напечатанной в «Правде» годом раньше, Троцкий назвал кинематограф «великим конкурентом не только кабака, но и церкви»3.

Кадр из фильма «Стачка» (1925) / реж. Сергей Эйзенштейн
1924-й ознаменовался бумом в кино. Одно лишь производство Госкино выросло с 5 до 25 фильмов. В целом вся страна выпустила 76 фильмов (по сравнению с 28 в предыдущем году). Из эмиграции вернулись известные режиссеры — Яков Протазанов, Вячеслав Висковский, Петр Чардынин. Свои первые полнометражные фильмы сняли Кулешов и Вертов: «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» и «Киноглаз». Некоторые ленты принесли даже коммерческий успех, как например «революционный вестерн» Ивана Перестиани «Красные дьяволята».
В 1923 году Пролеткульт основал «Пролеткино», собственную кинематографическую организацию, издававшую журнал и владевшую небольшой киностудией. Влиятельный идеолог Пролеткульта Платон Керженцев сформулировал концепцию нового Пролетарского фильма еще в 1919 году. Он утверждал, что пролетариату в кинофильмах не нужны ни Достоевский, ни Пинкертон. Народу нужно видеть сами массы, творящие историю; только кинематограф способен выполнить эту задачу4.
Эйзенштейна увлекли монтажные возможности, которые открывал кинематограф. Он уговаривал руководство Пролеткульта, то есть собственного начальника Плетнева, запустить свой фильм. Плетнев мог бы написать сценарий, Эйзенштейн — выступить режиссером и задействовать актеров своей труппы. Он легко внушил эту идею энергичному Плетневу.
Эйзенштейн задумал фильм как массовое действо в духе Пролеткульта, но, следуя программе ЛЕФа, рассматривал его как «производственный сценарий», как учебное пособие для мирового пролетариата. Фильм научит рабочих, как организовывать и осуществлять демонстрации, стачки, восстания — и революцию. Студенты Эйзенштейна занялись сбором фактов, Максим Штраух принялся конспектировать «Технику большевистского подполья», два объемистых тома, вышедших в 1922 году. Эйзенштейн и Плетнев составили план серии в восьми частях, назвав его «К диктатуре». Они намеревались проиллюстрировать всю историю российского рабочего движения, от первых подпольных типографий до Октябрьской революции.
В Пролеткульте снять фильм было невозможно. Дмитрий Бассалыго уже работал над похожей картиной, состоящей из шести серий, «Из искры пламя», о борьбе русских текстильных рабочих. Поэтому Эйзенштейн понес свой план в Госкино. На этот раз все сложилось в его пользу. Кинопромышленность переживала подъем, и Эйзенштейн знал все о новых реформах. Бориса Михина, к которому Эйзенштейн обращался за разрешением снять «Дневник Глумова», как раз назначили директором 1-й фабрики Госкино, бывшей киностудии Александра Ханжонкова — крупнейшего дореволюционного продюсера. Михин нуждался в новых людях, чтобы справиться с быстро растущим производством. Эксцентричный молодой человек с высоким голосом и торчащей во все стороны шевелюрой пришел как раз в нужный момент. Михин выбрал для постановки «Стачку», стоявшую пятым эпизодом в плане Эйзенштейна. 1 апреля они подписали договор.
Под диктовку Эйзенштейна Григорий Александров и Иван Кравчуновский карандашом писали сценарий в школьных тетрадках. Они включили в него всевозможные сочные эпизоды в духе гиньоля. Одного рабочего разрезал пополам станок; другой падал в котел с кипящей сталью. Монтажные стыки смаковали контрасты. В супе, который ели рабочие, плавал бычий глаз; этот глаз должен был перейти наплывом в монокль капиталиста, смотрящего в киноаппарат. Плетнев обуздывал фантазию сценаристов, стараясь подыскать каждой сцене конкретное историческое соответствие. Когда сценарий был закончен, Пролеткульт отказался отдавать Эйзенштейна Госкино. Он все еще числился их работником. Михин предложил компромисс: фильм будет делаться как совместная продукция Пролеткульта и Госкино. Плетнева, Эйзенштейна, Александрова и Кравчуновского внесли в договор как коллектив авторов.
Госкино, за исключением Михина, было не в восторге от приглашения на работу новичка. Да, Эйзенштейн проявлял энтузиазм, и за спиной у него было несколько успешных театральных постановок, но он совершенно не разбирался в кино. Эйзенштейна попросили снять несколько пробных сцен. Пробы оказались менее чем убедительными, хотя Михин и направил в группу своего самого опытного оператора, Эдуарда Тиссэ. Теперь Михину пришлось бороться уже не только с Пролеткультом, но и с собственным начальством в Госкино. После двух хаотичных съемочных дней Госкино потребовало увольнения Эйзенштейна. Михину и Тиссэ пришлось подписать заявление, в котором они брали на себя всю финансовую ответственность за возможное фиаско. Госкино распорядилось, чтобы Михин каждый день присутствовал на съемках, и назначило консультантом фильма Кирилла Шутко.
В июне они начали снимать в Коломенском, на заводе, изготовлявшем железнодорожные вагоны, затем перебрались во двор кинофабрики на Житной улице. Сняли пруд у Симонова монастыря, лес в Сосновом Бору и «кадушкино кладбище» шпаны в Лужниках. Подозрительный и эгоцентричный Эйзенштейн был не самым легким напарником. Он устраивал сцену всякий раз, когда его требования не выполнялись. Он видел в Михине не защитника, а надсмотрщика из Госкино, который урезал его требования на каждом шагу и мошенничал. Эйзенштейн просил тысячу статистов для сцены демонстрации. Михин попытался объяснить, что и пятьсот прекрасно заполнят кадр. Между ними вспыхнула ссора. В итоге Михин обманул Эйзенштейна, выдав пятьсот статистов за тысячу. Чтобы сэкономить деньги на другой массовой сцене, Михин предложил Эйзенштейну снять в качестве начала стачки настоящий митинг настоящих рабочих — завод пригасил выступить с речью Троцкого, ради которой массы заполнили заводской двор. Но уже на следующий день у Эйзенштейна возникло новое требование: ему нужна была крупная жаба. К тому времени, когда жабу поймали, солнце уже село. Подобные дни даже Михина приводили в ярость. Позднее, впрочем, Михин признал, что требования, казавшиеся на съемочной площадке капризами, были продиктованы железной волей режиссера. Эйзенштейн обладал предельно точным видением каждой сцены и не шел ни на какие компромиссы.
Работа на съемочной площадке отнимала все время и энергию Эйзенштейна. Жизнь состояла только из делания кино. Все лето напролет их команда снимала без перерыва. Они закончили съемки в октябре и осенью смонтировали фильм. К концу 1924 года лента была готова. Руководителей Госкино она настолько впечатлила, что те даже не потребовали от Михина нести ответственность за промахи режиссера, который не уложился в сроки и перерасходовал пленку. Зато неопытный дебютант смог ухватить революцию как кинематографическое, динамичное и трагическое событие. Кадры фильма выдерживали сравнение с конструктивистской живописью и фотографией; актерская эксцентрика соперничала с театром Мейерхольда. Вместе с тем необычные сопоставления кадров и их жестокость — ребенка отрывали от матери и бросали в лестничный пролет (до сих пор только Эрих фон Штрогейм отваживался показывать нечто подобное!) — достигали беспрецедентного, глубоко шокирующего воздействия. Радикальный монтаж Эйзенштейна был по-настоящему новаторским. Вместо привычных 40–60 склеек на часть здесь их было 379. Сцена, длящаяся порядка пяти минут, содержала около 100 кадров, длина которых варьировалась от 15 «кадриков» до 1,5 метров. Новичок оказался проницательным и пристрастным знатоком кино. Он уловил и переструктурировал его возможности. Комический трюк «политого поливальщика» он превратил в жестокое избиение, садовый шланг — в смертельное оружие. Казаки гарцевали по лестницам на лошадях, их сложный цирковой балет Эйзенштейн превратил в зловещую прелюдию расправы. Больше всего зрителей поразил финал: от кадров забиваемого быка Эйзенштейн перескакивал к расстрелу демонстрации. Публика сперва не уловила метафору. Многие зрители думали, что резня происходит на скотобойне. Другие выдвигали догадку, что на скотобойню врываются голодные забастовщики.
Свой кинематографический «монтаж аттракционов» Эйзенштейн организовал как последовательность запрограммированных зрительных шоков. Он заявлял, что искусство — это способ управлять человеческим опытом; его картина и впрямь пропускала зрителя через мясорубку. Монтаж позволил Эйзенштейну, «киноинженеру», сведущему в том, как управлять психикой, создать комбинацию из стимулов, которые, будучи связанными произвольно, тренировали социальные рефлексы — классовую ненависть и классовую солидарность. Он пытался достичь сходного воздействия и в театре, но после первых опытов обнаружил, что в кино его система комбинации шоков может применяться более эффективно. На киноизображение — благодаря его большей абстрактности — зрители реагировали быстрее, чем на исполнение «во плоти». Кинокадр — сфотографированная картина — способствовал более быстрому развязыванию потока ассоциаций, нежели реальная игра актеров на сцене. С помощью монтажа Эйзенштейн соединил расстрел демонстрации (игровая сцена, данная общими планами) с реальным забиванием быка. В этой документальной съемке, разбитой на планы, камера постепенно приближалась и останавливалась на крупном плане широко открытого бычьего глаза. Физиологический ужас, пережитый при виде реальной смерти животного, переносился тем самым на сыгранную сцену массового убийства беззащитных людей: никакой актер не смог бы создать столь же жуткий всеобъемлющий эффект. Это воздействие основывалось не на логическом сопоставлении скотобойни с расстрелом демонстрации. Напротив, перенос эмоционального переживания с одного события на другое служил основой воздействия фильма, венчавшегося финальным титром: «Помни, пролетарий!».

Кадр из фильма «Стачка» (1925) / реж. Сергей Эйзенштейн
Стал ли внезапно марксистом аполитичный молодой человек из буржуазной семьи, не разглядевший политические масштабы революции и Гражданской войны? Было ли это вхождение в кино чем-то большим, нежели причудой его биографии? Его окружение — не масоны и розенкрейцеры, а Мейерхольд и Левый фронт — составляли в высшей степени политизированные художники. Более всего, однако, на него повлияли их призывы модернизировать театр, язык, мышление — задача, которую они называли «революцией в искусстве». Театральные постановки Эйзенштейна были социально ангажированными, но даже их автор Сергей Третьяков, и тот оценивал работу Эйзенштейна как формальный эксперимент. Эйзенштейн не углублялся в большевистскую идеологию. Решение не следовать за отцом в эмиграцию и остаться с красными во многом было продиктовано личными мотивами, а не политическим выбором. Новый режим освободил его от необходимости преуспеть в буржуазной карьере инженера, на которую его настойчиво настраивал отец. Мать вряд ли могла предотвратить неуправляемые зигзаги в увлечениях сына, приведшие его от занятий японским языком к искусству. Пролетарскую революцию Эйзенштейн пережил как свое личное освобождение.
Его первый фильм принес ему славу ангажированного художника, хотя незадолго до своего чудесного превращения он писал матери, что находит пролетарское искусство скучным и физически невыносимым. Новая форма выражения — кино — открыла неожиданную возможность создать нечто действительно оригинальное именно в области пролетарского фильма. Эксперименты Эйзенштейна были далеки от всех бытующих в то время киноформ: и от психологического натурализма традиционного русского дореволюционного кино, и от коммерчески успешных голливудских фильмов, и от в высшей степени стилизованного искусства немецкого экспрессионизма. Новый вид искусства пленил Эйзенштейна по многим причинам. Радикальный авангардный подход к искусству — деформация, фрагментация, динамизм, разрывы, симультанность, взаимопроникновение времени и пространства — был в кино технически обоснован. Киноаппарат мог деформировать и членить реальность на куски, а затем заново собирать их каким угодно образом. Он мог ускорять или замедлять течение времени. Нарративные «аномалии» — отсутствие мотивировок, хаос деталей, алогизм, незаконченность — стали основой поэтики свободных ассоциаций. Кино было футуристической формой par excellence. Оно давало полную свободу для игры со стимулом и реакцией, с пространством и временем, с причинностью и случайностью, с человеческим телом в движении и ритмом как таковым. Кинематограф обладал и еще одной притягательной чертой. Эйзенштейн открыл для себя не только власть над временем и пространством, но и власть над реальными людьми. Ему в унисон подчинялись тысячи. Движение городского транспорта и работа завода могли быть остановлены по его приказу. Массы могли быть собраны на фабричном дворе, чтобы слушать Троцкого, но в действительности они принадлежали ему и его фильму. Эти претензии на власть — если его теория аттракционов верна — вскоре приобретут еще больший размах. Не только массы перед киноаппаратом, но и миллионы зрителей по всему миру начнут вскакивать с мест, кричать, плакать в соответствии с его замыслом, его монтажом аттракционов.
По стечению обстоятельств массы перед аппаратом были одеты как русские пролетарии, а не как римские или вавилонские воины в «Нетерпимости» Гриффита, служившей для Эйзенштейна образцом. Их действия разворачивались в современных индустриальных пространствах: на заводах, мостах, в городском пейзаже. Сюжетом стала историческая судьба угнетенных и обездоленных, и силу своего воздействия фильм черпал из солидарности этих угнетенных. Материал (массы, которые изображала перед киноаппаратом толпа статистов), опыт манипулирования массами в зрительном зале и футуристические возможности кинематографа — вот что в конечном итоге сделало Эйзенштейна большевиком. Новое искусство вобрало его очень личные пристрастия, и, хотя основные элементы фильма, его тема, сюжет, адресат были по существу коллективными, он был его автором и стал полубогом.
Едва ли случайно, что первый опыт Эйзенштейна в коллективном искусстве закончился огромным скандалом об авторстве. Кто являлся автором «Стачки» — этого, без сомнения, впечатляющего произведения? Конфликт стал назревать еще во время съемок. Плетнев требовал от своего подчиненного письменных и устных отчетов о проделанной работе. Его раздражало, что Эйзенштейн не успевал уложиться в отведенные сроки. Эйзенштейн нашел такое обращение унизительным и нарушил договоренности.
Поначалу газеты объявили фильм плодом коллективных усилий Плетнева и Эйзенштейна. Однако летом киножурналы опубликовали фотографии Эйзенштейна на съемочной площадке, приписав ему единоличное авторство. В интервью, данном в январе, Эйзенштейн винил в проволочках руководителей Пролеткульта, которые неоднократно отвлекали его от монтажа фильма. Он был вынужден спасать картину от исправлений, которые навязывало руководство Пролеткульта, слабо разбиравшееся в проблемах композиции фильма. Он демонстративно благодарил директора фильма Михина, отмечая, что Пролеткульт никогда доселе не проявлял столько внимания к его работе5. Его нововведения в «Мексиканце» приписали Смышляеву; во время работы над «Мудрецом» он боялся, что все лавры достанутся Третьякову. Теперь Эйзенштейн был уверен в своей силе и оригинальности и отказался принять претензии Плетнева на соавторство, поскольку практически не использовал его сценарий.
В течение месяца газеты «Кино» и «Кинонеделя» печатали открытые письма соперников. Плетнев обвинял Эйзенштейна в самоцельном формализме, трюкачестве и подозрительном фрейдизме6. Эйзенштейн отвечал, что руководство Пролеткульта (то есть Плетнев) поддерживает мелкобуржуазный реалистический театр с традиционным сюжетом и мещанским оформлением и обвинял это (формально) реакционное руководство в правом уклоне7. В своих письмах, не все из которых были напечатаны, Эйзенштейн пытался и для себя прояснить различия между этими видами искусства, приводя в порядок свои мысли. «Театр, не сумевший во славе своей перестать быть театром, когда это стало нужным, естественно незаметно затрется, как архаичный извозчик, затираемый с одной стороны автобусом — кино, технически более современным, а с другой — марширующими звеньями пионеров, строителей нового быта, где насквозь буржуазный институт театра уже не понадобится»8. 24 февраля 1927 года Эйзенштейн записал в дневнике: «Тенденция моей работы в Пролете — было не создание театра, а заготовка новых шаблонов (стандартов) разрешения задач в виде агитревю ("М[удрец]"), агитка политическая ("Москва") для использования целой сетью провинциальных Пролетов. Пролет захотел в лабораторной посуде — ретортах варить варенье. Сделать театр (для пьес Плетнева!), да еще профессиональный! Одно из крупнейших расхождений»9.
Эйзенштейн сообщил прессе, что ушел из Пролеткульта, потому что тот слишком «правый». Плетнев скорректировал эту версию — это он уволил Эйзенштейна, который своими последними выходками и поведением в отношении Пролеткульта создал ситуацию, сделавшую его дальнейшее пребывание в Пролеткульте невозможным. Поэтому он освобожден от своей работы. Место Эйзенштейна Плетнев предложил Григорию Рошалю.
Разрыв этот потому получил такую огласку, что за ним стояла куда более масштабная борьба: Левый фронт боролся с «правым» Пролеткультом. Случай Эйзенштейна пришелся как нельзя более кстати для обеих сторон.
Эйзенштейн пытался скрыть свое увольнение или, по крайней мере, приуменьшить его значение. Втайне, однако, он тревожился за свое будущее и попросил своего старого знакомого Константина Елисеева, перебравшегося из Минска в московскую газету «Красный Перец», подыскать ему там работу карикатуриста. Елисеев уже было порадовался за будущее советской политической карикатуры, но тут Мейерхольд великодушно распахнул перед бывшим учеником двери своего театра. Эйзенштейн мог выбирать, что ставить: «Ревизора», «Горе от ума» или «Гамлета». Все это были пьесы, которые Мейерхольд зарезервировал для себя. Они обсуждали возможность постановки «Златопуза» Фернана Кроммелинка в обработке Аксенова. Но разрыв Эйзенштейна с Пролеткультом ознаменовал и его окончательное прощание с театром. После некоторых колебаний он отклонил «единственно приемлемое» для него предложение Мейерхольда, решив всецело посвятить себя — кино10.
Эйзенштейн знал, как выбираться из конфликтных ситуаций. Он бы никогда окончательно не порвал с Пролеткультом, не будь у него некоторой подстраховки. Теперь он отважился на этот шаг, потому что нашел нового сильного покровителя, Кирилла Шутко, консультанта на съемках «Стачки», которого он назвал своим спасителем в тяжбе с Пролеткультом. Шутко вел дискуссию после первого студийного показа «Стачки» в марте 1925 года. Влиятельный большевик, член нескольких комитетов и редколлегий, Шутко был в восторге от фильма. Он тотчас «усыновил» Эйзенштейна, объявив себя его руководителем, защитником и другом. В юности Шутко учился актерскому мастерству и работал с Мейерхольдом. Затем он ушел в подполье ради дела революции. Теперь он был членом Отдела агитации и пропаганды Центрального комитета.
Эйзенштейн должен был прибегнуть к помощи своего высокопоставленного покровителя, которого он называл «кардиналом», ибо его положение после апрельской премьеры «Стачки» было шатким. Критики любили его, но киноначальники были настроены враждебно. Расположение последних имело решающее значение для кинорежиссера, особенно новичка. Даже Маяковскому, несмотря на все его влияние, не удалось протащить свой самый значительный сценарий «Как поживаете?» через решающие инстанции. Совкино, по примеру расформированного к тому времени Госкино, могло выпускать лишь небольшое количество фильмов. Молодые таланты нуждались во влиятельных покровителях. Эйзенштейн смотрел на это с чисто прагматической точки зрения. Без помощи Плетнева он бы никогда не смог сделать «Стачку». Теперь более полезным казался Шутко.
Еще до публичной премьеры «Стачка» получила хорошую прессу. Рецензия Хрисанфа Херсонского в «Известиях» от 11 марта и восторженный отзыв Михаила Кольцова в «Правде» от 14-го были только началом. Председатель АРК Николай Лебедев назвал «Стачку» «первой интернациональной картиной»: «Это огромное событие в кинематографии советской, русской и мировой […] Рискуя испортить Эйзенштейна и нажить ему многих врагов, я утверждаю, что по богатству и смелости фантазии, по мастерству использования актерского и вещного материала, по оригинальности кадров и ритму движения и монтажа в целом ряде моментов он не только превзошел наших доморощенных "Грифицов" с Житной улицы, но и прославленного Давида Варка Гриффита из Голливуда»11. Коллеги Эйзенштейна по режиссерскому цеху придерживались иного мнения. Кулешов хранил молчание. На открытой дискуссии в АРКе Вертов обвинил Эйзенштейна в плагиате, утверждая, что тот все взял у него: структуру монтажа, композицию, оформление титров. При этом Эйзенштейн добавил «декадентские изломы», «театрально-цирковые моменты», «трагические […] позы немого завывания» и целый ряд других качеств и особенностей, взятых не от «жизни как она есть», а от так называемого «театра для дураков»12. Сцена на скотобойне, и та была украдена из его «Кино-Глаза».
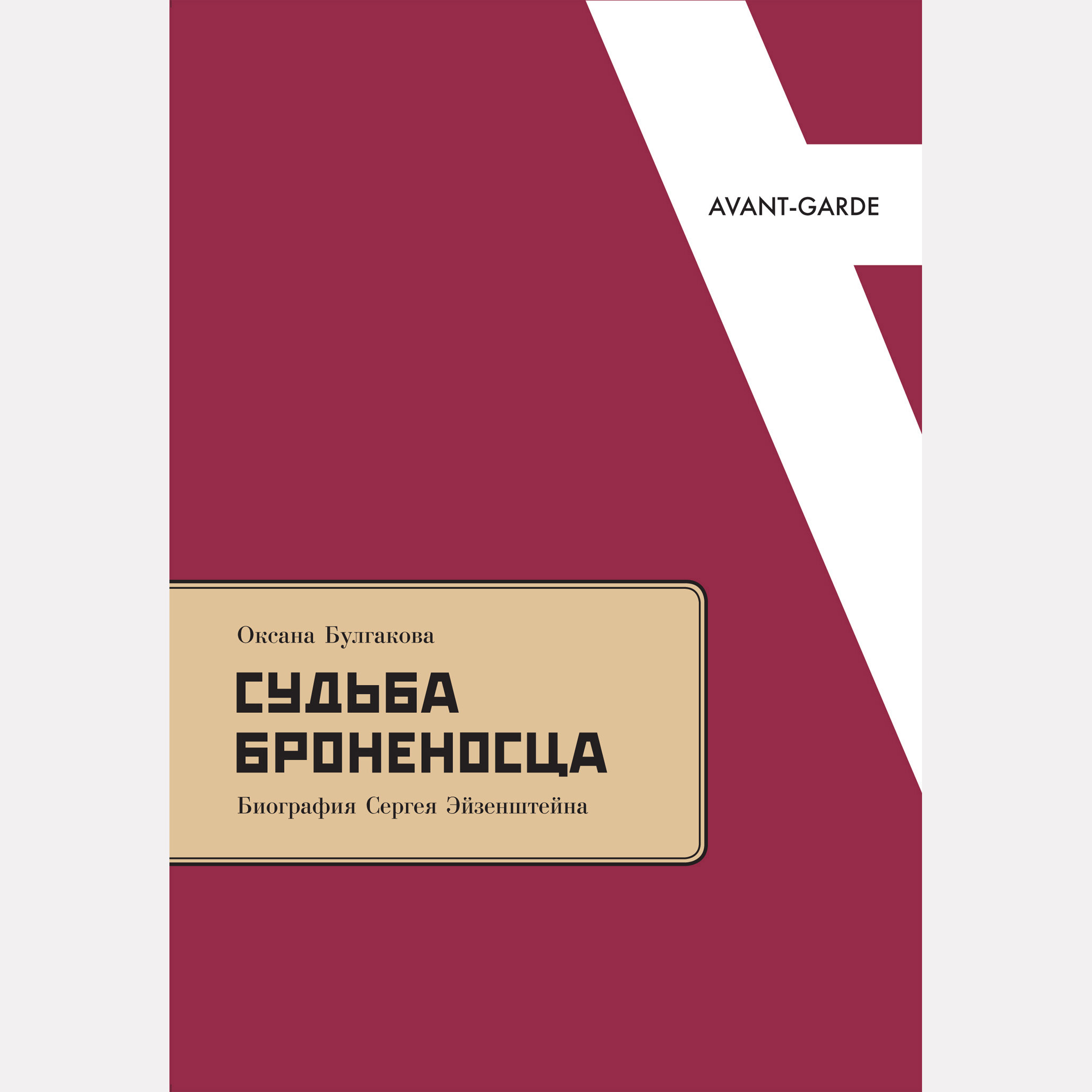
Обложка книги Оксаны Булгаковой «Судьба броненосца. Биография Сергея Эйзенштейна» (Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017)
Эйзенштейн посчитал эти обвинения крайне оскорбительными и в ответ опубликовал в «Киножурнале АРК» статью «К вопросу о материалистическом подходе к форме».
Полемика, касавшаяся исключительно понимания искусства, велась обоими оппонентами в грубой обличительной манере. Ярлыки, которые они старались навесить друг на друга, обычно использовались в полемике с политической оппозицией. Вертов назвал Эйзенштейна «уклонистом»; Эйзенштейн заклеймил Вертова оппортунистом и меньшевиком, который увлекся «искусством ради искусства», пуантилизмом, импрессионизмом, пантеизмом, не думая о том, как повлиять своей работой на пролетариат13. Прием, оказанный их фильмам за рубежом, невольно подлил масла в огонь. На Выставке декоративных искусств и индустрии в Париже в 1925 году «Стачка» получила золотую медаль, а «Кино-Глаз» увез домой серебряную.
Помирить двух членов ЛЕФа попытался Борис Арватов. Он заявил, что они ведут себя как «художники-интеллигенты», попрежнему мыслящие в старых категориях индивидуального творчества. Их произведения в действительности не так уж и разнятся14. Казимир Малевич и Виктор Шкловский тоже были втянуты в полемику. Шкловский предлагал признать, что «удача "Стачки" была неудачей. Удача была камерная, газетная […] "Стачка" Эйзенштейна неэкономна. Ее связи тяжелы для восприятия зрителя и они не овладевают зрителями»15.
Свою выразительную мощь «Стачка» не утратила и по сей день, но в ту эпоху фильм должен был произвести эффект разорвавшей бомбы. Он не имел ничего общего с русским кинематографом; большое влияние оказал на него театр Мейерхольда и русский конструктивизм. «Стачка» была детищем Левого фронта. Неудивительно, что пресса и прокатчики заняли в оценке фильма противоположные позиции. После премьерных показов «Стачки» в кинотеатрах прокатчики развернули в газетах кампанию протеста против фильма. Они доказывали, что Эйзенштейн потратил слишком много денег, израсходовал слишком много пленки и принес слишком маленький доход. Зрители хотят сюжета, а его-то в фильме и нет. При этом картина стоит вдвое дороже, чем «Мистер Вест» Кулешова, и вчетверо дороже, чем «Враги» опытного киноремесленника Чеслава Сабинского. «Стачка» делала настолько маленькие сборы, что ее вскоре сняли с проката, заменив «Багдадским вором» с Дугласом Фэрбенксом в главной роли.
Несмотря на все кривотолки, Госкино предложило Эйзенштейну годовой договор на работу режиссером. Документ он подписал 14 апреля 1925 года. Договор гарантировал ему шестьсот рублей в месяц; во время съемок и командировок эта сумма удваивалась. Эйзенштейн начал посылать матери пятнадцать рублей в месяц. (Благодаря денежной реформе 1924 года миллионы исчезли из обиходного языка.)
На съемках «Стачки» Эйзенштейн близко узнал оператора Эдуарда Тиссэ, тихого, твердого человека, отличного спортсмена и опытного профессионала, на которого можно было полностью положиться. Тиссэ был родом из Латвии, с 1914 года он снимал хронику, работал фронтовым кинооператором, что подготовило его для работы с батальными сценами на натуре. Тиссэ знакомил Эйзенштейна с премудростями профессии практическим путем: например, развинтил свой собственный киноаппарат марки «Éclair» и показывал Эйзенштейну, как это устройство работает. В те времена Эйзенштейн и его ассистент Гриша бегали в рубашках, сшитых из шерстяных одеял. Эдуард же всегда носил клетчатый костюм, сорочку с накрахмаленным воротничком и начищенные желтые туфли. Под его влиянием Эйзенштейн и Александров сменили свои шерстяные рубахи на клетчатые пиджаки.
Эйзенштейн отклонил предложение Госкино снять остальные эпизоды «К диктатуре» в сотрудничестве с Пролеткультом. В любом случае, это стало невозможным после его увольнения. Следующим фильмом Эйзенштейн задумал «Конармию». Это должно было быть грандиозное массовое кино. В качестве возможного сценариста обсуждался Исаак Бабель. В число консультантов должны были войти комдивы Семен Буденный и Климент Ворошилов, которых Эйзенштейн назвал «фактическими инициаторами» фильма. В декабре 1924 года для московского филиала ленинградской студии Севзапкино Эйзенштейн написал сценарий. Его соавторами были Григорий Александров и Яков Блиох, бывший комиссар Первой конной. Но у киностудии не нашлось достаточно денег, чтобы финансировать эту гигантскую постановку. Велись переговоры о создании фильма об импорте и экспорте пушнины для Госторга, советской внешнеторговой организации. В 1926 году этот фильм поставил Дзига Вертов, назвав его «Шестая часть мира».
Но обстоятельства вновь сложились иначе.
Перевод: Александр Скидан
Примечания:
1. Алперс Б. Театр социальной маски [1931] // Алперс Б. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1. С. 151.
2. 16 апреля 1922 года в итальянском городе Рапалло наркоминдел Советской России Г. Чичерин и глава германского МИДа В. Ратенау подписали договор, предусматривающий политическое сотрудничество двух государств изгоев. — Примеч. ред.
3. Троцкий Л.Д. Водка, церковь и кинематограф // Правда. 12 июля 1923. № 154. Цит. по: Троцкий Л.Д. Сочинения. Серия IV: Проблемы культуры. Т. XXI: Культура переходного периода. М.; Л.: ГИЗ, 1927. С. 45.
4. Керженцев П. Классовая борьба и кино // Кинематограф: Сб. ст. М., 1919. С. 87.
5. Г. Г-зд. Эйзенштейн о своих работах и планах. К выпуску «Стачки» // Киногазета. 20 января 1925. С. 2; С. Эйзенштейн и Пролеткульт. Беседа с С.М. Эйзенштейном // Новый зритель. 27 января 1925. № 4. С. 13–14.
6. Плетнев В. Открытое письмо в редакцию Кинонедели // Кинонеделя. 3 февраля 1925. № 6. С. 9.
7. Эйзенштейн С.М. Письмо в редакцию // Киногазета. 17 февраля 1925. С. 3.
8. Цит. по: Юренев Р. Сергей Эйзенштейн: Замыслы. Фильмы. Метод: В 2 т. М.: Искусство, 1985–1988. Т. 1. С. 99.
9. Там же.
10. А. Л-ес. Беседа с режиссером С.М. Эйзенштейном // Кинонеделя. 21 января 1925. № 4. С. 17.
11. Лебедев Н. «Стачка» // Киногазета. 17 марта 1925. С. 2.
12. На диспуте в АРК // Киногазета. 24 марта 1925. С. 5.
13. Эйзенштейн С.М. К вопросу о материалистическом подходе к форме // Эйзенштейн С.М. Избр. произв. Т. 1. С. 114–115. Ср. также соображения о «Киноправде» Вертова: «[…]Берет она аттракционностью тем и чисто внешним формальным мастерством монтажа отдельных кусков, скрывая их короткометражностью "бесполое" эпическое "изложение фактов"» (Эйзенштейн С.М. Монтаж киноаттракционов [1925] // Эйзенштейн С.М. Неравнодушная природа. М.: Музей кино, Эйзенштейн-Центр, 2004. Т. 1: Чувство кино. С. 444). — Примеч. ред.
14. Арватов Б. «Агит-Кино» и «Кино-Глаз» // Киножурнал АРК. 1925. № 8. С. 3–4.
15. Шкловский В. Необходимое зло // Киногазета. 10 ноября 1925. С. 2.





